Открытие кинотеатров по всему миру постоянно откладывают, а премьеры переносят – кажется, остается только вспоминать уже вышедшие фильмы. И пока у нас в стране хотят подождать с «тяжелыми драмами» на экранах, в Великобритании зрителям планировали показывать «Паразитов» (2019). С 24 июля черно-белая версия оскароносного режиссера Пон Джун-хо должна была вернуться в кинотеатры – планы в очередной раз оказались нарушены, однако фильм все равно доступен на стриминговой платформе. Хороший повод, чтобы снова поговорить о достоинствах и недостатках так называемой «деколоризации» в картине.
«Паразиты» – это вирус. Сначала они поразили Каннский кинофестиваль, где стали первым южнокорейским лауреатом «Золотой пальмовой ветви», а затем продолжили наступление на «Оскаре», собрав четыре статуэтки, в том числе за «Лучший фильм». Это дежурные вещи, факты из новой истории кино, которые принято упоминать, говоря о «Паразитах», как и про необычность сочетания двух наград: «Паразиты» лишь третий фильм, после «Потерянного уик-энда» (1945) и «Марти» (1955), которому так повезло. Вслед за Каннами и «Оскаром» они получили мировое признание от критиков и зрителей, и американские продюсеры, почуявшие успех, настроились на адаптацию. HBO готовы приютить сюжет о трех семействах, где борьба за место под солнцем и череда обманов заканчиваются кровавой бойней на пиру, – действительно, как не заняться этим после «Игры престолов»? Иными словами, история получилось долгоиграющей, и несмотря на то, что фильм отгремел уже давно, его эхо все время усиливалось (и усиливается до сих пор) новыми отзвуками.
Поэтому решение Пон Джун-хо перевыпустить «Паразитов» в черно-белом варианте не кажется таким странным. Нужно ковать, пока горячо, и продолжить триумфальное шествие фильма можно и таким образом, тем более что своеобразная «кинодеколоризация», кажется, is the new black последних лет. Подобными версиями обзавелись четвертый «Безумный Макс» (2015) и «Логан» (2017) – блокбастеры (к которым, кстати, можно смело отнести «Паразитов») оказались поражены черно-белой болезнью одними из первых, хотя и тут Джун-хо их опередил – в 2013 году он уже переделал подобным образом свой фильм «Мать» (2009).
Режиссер не скрывал надежд на увековечивание фильма в истории и подчеркивал, что все классическое кино состоит из черно-белых шедевров, поэтому если он поступит так же со своими картинами, они обретут бессмертие – это практически шаманский заговор на продление жизни. Таким образом, солидный статус будет сохранен, и тройка рекордсменов – «Потерянный уик-энд», «Марти» и «Паразиты» – по-прежнему будет иметь свой общий и, что важно, черно-белый, вид.
Интересно, что в приведенных примерах современной деколоризации речь идет об официальных прокатных версиях, сделанных при участии авторов, а не о фанатских ремейках и стилизациях. Такое любительское творчество – отдельный вид искусства, и в интернете можно найти массу примеров: из копполовского «Дракулы» (1992) однажды сделали немой фильм а-ля «Носферату», а в «Сиянии» (1980) симметрично совместили кадры из обычного и пущенного задом наперед варианта. Черно-белые версии тоже не редкость в этой области. Кинорежиссер и кинолюбитель Стивен Содерберг как-то перекрасил «Индиану Джонса», чтобы акцентировать внимание на деталях и построении кадра, а затем проделал то же самое с «Психо» Гаса Ван Сента, смонтировав его с хичкоковским оригиналом. И даже не стоит упоминать, сколько всего есть в жанре «what if», существующем где-нибудь на просторах YouTube или Vimeo в виде пародий вроде «Если бы Ингмар Бергман снял “Флэша”».
Возможно, конвертация изображения в черно-белое это нечто вроде утратившего сейчас популярность 3D, когда фильмы прокатывались в двух вариантах, обычном и переведенном в «объем», причем разница была видна в основном в стоимости билета, но не на экране. Обращение к черно-белому кажется более наглядным (отсутствие цвета воспринимается более живо, чем наличие 3D в некоторых случаях), но таким ли уж необходимым и привлекательным для зрителей?

Джун-хо, конечно, говорил в интервью не о коммерческой стороне затеи, а о создании «параллельной» основному фильму копии и о производимом ею эффекте. По его словам, в черно-белой версии запахи, один из основных мотивов картины, «чувствуются острее» (тогда это уже не 3D, а 4D), а при просмотре обращаешь больше внимания на игру актеров и взаимодействие персонажей – отсутствие цвета как бы подчеркивает эти детали.
Довольно лукавое замечание от автора – неужели в цветных фильмах мы не обращаем на это внимание? Описанный им эффект должен напоминать «Чужих среди нас» (1988), еще одну сатиру с критикой капиталистического общества, где у Джона Нада были волшебные очки, сквозь которые он, буквально в черно-белом, видел ужасную правду о людях. Тут же вспоминаются обязательные в этом случае слова из статьи Эйзенштейна «Цветовое кино» о том, что «хороша та цветная картина, в которой цвет не дает о себе знать», – тезис, с которым сам Эйзенштейн не был согласен.
Вообще трудно говорить о чистоте эксперимента, предлагаемого Джун-хо, и сравнении двух вариантов, потому что, скорее всего, для большинства людей просмотр черно-белой версии «Паразитов» будет как минимум вторым, а то и третьим. В таком случае повторный просмотр какой угодно версии дает возможность больше сосредоточиться на незамеченных ранее деталях, особенно в таком фильме, как «Паразиты», где повсюду развешаны ружья и расставлены ловушки.
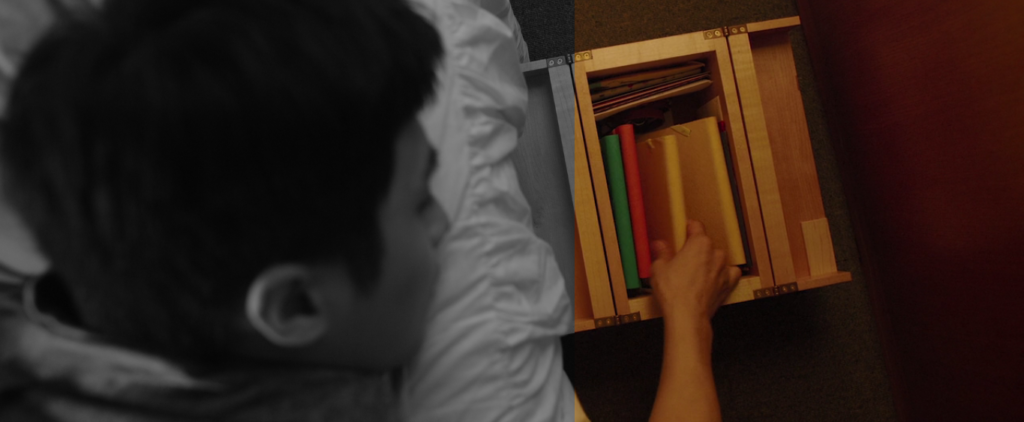
В особенности цветовые ловушки. В светофорной гамме фильма, состоящей из красного, желтого и зеленого (особенно хорошо это заметно на примере дневничков Да Хе), особую роль играют первый и последний цвета, малиновый и салатовый. Это то ли расцветка свитера Фредди Крюгера, то ли рождественских украшений, без которых режиссер не обошелся: в подвале семейства Пак стоит елка с игрушками, а над секретным входом в убежище висит гирлянда Merry Christmas.
Линия красного и зеленого проходит сквозь фильм, начиная от комбинаций бутылочек на кухне, пачек с лапшой или колпачков на разбрызгивателях и заканчивая сочетанием помады и креветок. Все это – знаки грядущей финальной катастрофы на празднике, где оба цвета сольются вместе: красная кровь на зеленой лужайке. Этой яркости – сначала кетчупа, а затем и крови – лишается черно-белая версия, где красные пятна сливаются с окружающим фоном.
Хотя Хичкок, к примеру, намеренно делал «Психо» без цвета, чтобы кровь на экране не смотрелась вульгарно. Сам маэстро ужаса зримо и незримо находится в «Паразитах»: дом в несколько уровней отсылает к «Психо», юмор тоже вполне хичкоковский, как и тема «не того человека», перевернутая, правда, в сторону самозванца (Ки У даже просит свою ученицу составить рассказ со словом pretend), а знаменитое лицо режиссера с расслабленным и презрительным взглядом появляется в одном из кадров. По соседству с фотографией архитектора на полке стоят книги, похожие на коробки VHS кассет, и Хичкоку отведен красный ярлычок, а рядом с ним – вечное сочетание – зеленый.

Забавно, что эти цвета можно воспринимать как сигналы «стойте» и «идите», то есть как своеобразный эквивалент «положительного» белого и «отрицательного» черного – стоит ли главным героям перебегать дорогу на красный раньше времени? Неслучайно и тема цветовых и световых знаков имеет такое значение, какое должен иметь, например, светофор для водителя Ки Тхэка, начиная от фонариков и лампочек, передающих азбуку Морзе, и заканчивая мерцанием экранов смартфона.
Цвета «Паразитов» напоминают ядовитый окрас животного или насекомого, сигнализирующего об опасности, настолько они яркие и бьющие в глаза. Так, окружающая героев зелень не кажется чем-то нормальным или здоровым, а больше напоминает полумистическую подкрашенную траву Антониони в парке из «Фотоувеличения» (1966). Может быть, поэтому теме еды и особенно фруктов отведено такое внимание: они наполняют кадр цветом, а солнечный персик вдобавок становится орудием, способным нанести вред.
Если утрированная с самого начала яркость оригинала создает комедийный и более «бодрый» зрелищный эффект (цвета меняются из локации в локацию, от бледно-зеленого к теплому желтому, обозначая таким образом принадлежность к разным мирам, бедному и богатому), то в черно-белой версии складывается какое-то фантастическое ощущение, похожее на сон, как будто замедляется скорость воспроизведения. Джун-хо говорил, что в этом варианте он увидел fairy tale, то есть сказку, и здесь появляются мотивы уже из других хичкоковских фильмов, например «Ребекки», где особняк Де Уинтера кажется современным замком Синей Бороды. Даже мелькает мысль, что это не герои готовят хитрый план, а наоборот – наивность хозяйки вдруг куда-то улетучивается, и кажется, что герои делают шаг в западню; возможно, стоит только сменить фильтр, и все вокруг сразу кажется зловещим. Отчасти это происходит из-за того, что внимание больше фокусируется даже не на персонажах и их взаимодействии, как говорил Джун-хо, а на контурах самих фигур, особенно отчетливо это заметно в сценах вне дома. Сравнить, например, кадры с идущим к дому Паков Ки У: в оригинале фигура паренька терялась из-за ярко-зеленых листьев на стене, но в черно-белом варианте мы следим за его движениями и можем оценить, насколько мала его фигура по сравнению с окружающим миром. Примерно то же самое происходит в кадре, где семья бежит по тоннелю, их фигуры сильнее выделяются на фоне мерцающих огней.

Причины перевода «Паразитов» в черно-белый могут быть еще прозаичнее, чем стремление собрать дополнительную кассу или сделать акцент на внутренних деталях фильма. Джун-хо рассказывал, что в детстве ему не разрешали ходить в кинотеатр, поэтому кино он смотрел дома, на черно-белом телевизоре, отсюда попытка сымитировать воспоминания прошлого. Нечто похожее, кстати, было в советские годы, когда копии зарубежных фильмов при дефиците цветной пленки тиражировались на черно-белой, и Бертолуччи, Висконти, Кубрик или Форман оказывались деколоризованными. Особой честью в этом случае считалось знание истинного цвета шапочки Макмерфи из «Пролетая над гнездом кукушки».
Сейчас, когда мода на ностальгию достигла своих вершин и люди готовы воссоздавать фильмы на VHS кассетах и просить переводчиков эпохи видеосалонов озвучить новые картины, чтобы все было «как надо», как они помнят или же хотят помнить, произведение стремится стать артефактом другого времени (весьма символично, что на «Оскаре» «Паразиты» соревновались с «Джокером» и «Однажды в… Голливуде», которые рады обмануть готовую к этому публику). Альтернативы официальным версиям набирают обороты, не без помощи, к примеру, дипфейков от нейросетей, дающих возможность соскользнуть в другую вселенную. Поэтому «классическая» версия «Паразитов» — специально законсервированная фантазия, подобному тому, как деление на правду и вымысел Ки У происходит в финале, в мире, где реальность кусается, но ностальгия на поверку оказывается еще большим вирусом, ведь живет она дольше, а распространяется быстрее.



















Комментарии 3